Разноцветие улицы завораживает. Темно-бордовые крыши, золотистые скамьи у изумрудных газонов, шоколадный асфальт в захвате лазурных бордюров. Снаружи так красиво и тепло, там все так счастливы...
Так счастливы...
Уже три часа не могу вспомнить последний - семнадцатый - штат Новой Америки. Не потому что семнадцать - слишком много, а потому что он - последний. Остальные названия крутятся в голове, сбивая друг друга, сливаясь в жуткое подобие индейских заклятий и эльфийских имен, но толку от них не больше, чем от Дима. Он лежит на грязных, в розовых подтеках от вишневого сока простынях, боксерские трусы цвета хаки кажутся черными - настолько он бледен. Уродливый шрам под лопаткой будто стал больше. Веревки у запястий и ступней завязаны трамонтанским узлом (Дим сам его придумал): одна петля - на теле, вторая - на каркасе скрипучей койки. Видно ведь - хочет что-то сказать, но молчит, как Космодемьянская.
На часах семь тринадцать вечера, а банановое солнце упорно ползет выше на восток. Чертовски неправильное солнце.
Я читаю на парящей в воздухе оливковой доске выведенные пурпурным мелом слова и не могу вспомнить недостающее.
- В каком штате родилась Дженни Попес? Не помнишь, ДимА? - специально делаю ударение на последнюю букву, но он меня старательно игнорирует.
Самое смешное, что я-то знаю, как его бесят русские сокращения мужских имен. Коля, Саша, Леша, Дима... женский род по правилам богатого и могучего. Пидорство - по словарю Дима. Обычно оно доводило моего любимого до рефлекторного удара в говорившую челюсть, даже если челюсть - моя. А сейчас - дудки. Лежи, красавец, не дергайся, сам хотел разнообразия в сексе.
Лиловые облака плывут за окном. Десятый этаж - не так уж высоко, но, кажется, будто раздутые до исполинских размеров снежки вот-вот начнут штурмовать узкие рамы. На минуту я отвлекаюсь от штатных имен-заклинаний и заворожено разглядываю неповоротливые небесные месива. Они меняют окраску с лилового на изумрудный, затем наливаются кровью и бледнеют до алмазной чистоты. Я цепляюсь за каждый оттенок, словно за драгоценные бусины, срывающиеся с нити в море. Я дышу какофонией цвета.
А потом все меркнет. Смазывается в замызганную массу разных оттенков серого. Серое небо, серые безлиственные деревья, серые стены этого давшего серьезный крен дома и серая щербатость асфальта. Под окном копошатся личинки. Не личины людей - зародыши. С землистыми лицами (все прожилки видны даже сверху). С перламутровыми глазами-жемчужинами. В них так много могло быть запрятано, но видна только скука. Безразличие. Апатия. Бесцельно возятся внизу месивом. Внизу, так близко, так...
Я отпрыгиваю от окна в то место, где недавно висела оливковая доска и, развернувшись на голых пятках, вглядываюсь в лицо Дима. За последние пару минут оно приобрело мертвенный оттенок и покрылось прыщами. От врезавшейся в скулы тряпки (даже не помню, чем она была раньше) на коже появились глубокие борозды. Теперь понятно, почему он молчал.
Вытаскивая кляп, я все же стараюсь не сделать ему больно.
- Мы... - Дим пытается что-то сказать, но пересохшее горло заходится в кашле. - Мы обещали друг другу быть сильными, - наконец выплевывает он, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разбить распухшие губы.
Брошенный в стену табурет разлетается острыми щепками и разбрасывает обломки по маленькой комнате. Как только они касаются пола, мне становится все равно и наплевать. Все равно - по чьей указке жить, наплевать - как, лишь бы облака меняли цвет.
Цветные облака заставляют смотреть в небо.
Я подхожу к брошенной у дверей сумке, достаю из дырявого внутреннего кармашка маленький - с указательный палец длиной - пакет. Внутри него - калейдоскоп. Волшебные белые камушки.
- Выброси, пока не поздно.
Я смеюсь. Выходит нервно и неискренне, но я хохочу в голос, потому что мне кажется, что поздно было всегда. Еще до нашего рождения в стране, исступленно ненавидящей вечного противника презрением отставшего близнеца. Еще до замены автономных паспортов биомаяками под лопатками. Еще до того, как мир стал серым. Стальным. Механическим.
- Трусливая, слабая сука, - говорит Дим, и голос неестественно спокоен. Тусклая маска непричастности. - Ты просто наигралась.
Нет. Видеть искривление амальгамы - сомнительное удовольствие, особенно когда в нее, словно в фольгу, завернут каждый атом кислорода. И вообще, кто сказал, что иллюзия - зло? Кто додумался объявить радужную сказку рабством?
Мы думали, что ломаем мир, выгрызая друг другу из-под лопаток кислые горошины. Мы давились своей слюной и кровью друга, орали и, даже чувствуя близость болевого шока, боялись наступить, задеть скрюченный судорогами труп ТогоКтоНеПоверил. Он единственный попытался вынуть биомаяк инструментами. Спасибо, отшвырнул от нас грабли с топором вместо черенка.
Мы были непростительно беспечны, дорогой Дим, и бесконечно глупы. Мы не знали, зачем теряем.
Оставляю в ладони две таблетки и сажусь рядом с ним на кровать. Действительно выдающиеся глупости не совершают в одиночку. Даже если приходится ломать чью-то волю.
Его мышцы напрягаются, тело дергается, но с горем пополам мне удается снова забить его рот кляпом с маленькой горошиной. Если бы пришлось - я засунула бы таблетку ему в задницу. Скоро нас станет двое в этой комнате. По-настоящему - двое.
Он сопротивляется чертовски долго и смотрит на меня исподлобья, как на отнятую добычу. Вот дегенерат. Максималист.
Свобода...
... не обязана быть...
...монохромной.
Наконец, краски берут свое. Глядя, как зрачки Дима расширяются, засасывают радужку, превращая глаза в двуцветие немого кино, я глотаю одну за другой две таблетки.
- Я любил бы Америку только за то, что придумали там "Шоу-бум", - ору во все горло, когда возвращается на место оливковая доска, и действительно боготворю иностранцев за чудо-таблетки. Я пьяным орангутангом скачу по комнате, почти задевая головой фиалковую люстру, и останавливаюсь лишь когда замечаю черные капли крови на пыльном полу. Дим хохочет, пытаясь зарыться носом в сизые простыни, но не может настолько вывернуть шею.
А мне больно.
Метрономный стук раскалывает череп. Я чувствую внутри скользкую нить, она ползет к разошедшемуся шву под лопаткой и собирается в био-клубок. Это ощущение новорожденного крыла. Это ощущение возврата в стаю.
- Это передоз, дура, - Дим видит мою перемену, мою мутацию и зло смеется сквозь слезы. - Нагрузилась до перезагрузки.
Боль - не самое страшное, когда рядом плачет мужчина. Рыдает, как нетраханная истеричка, размазывая по простыням сопли и слюни. Дим скулит взахлеб, потому что не любит ошибаться. А мы ошибались, обещая друг другу быть сильными.


















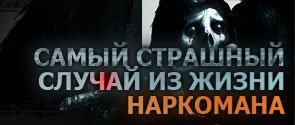

Нет комментариев